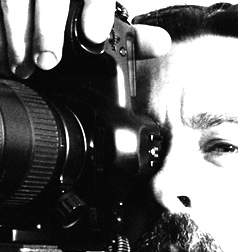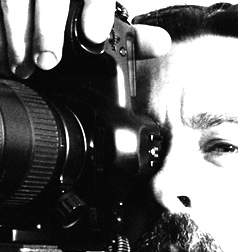В апреле широкому экспертному сообществу был представлен документ под названием "Стратегия развития космической деятельности России до 2030 года и дальнейшую перспективу". С одной стороны позитивно выглядит сам факт обсуждения столь важного предписывающего отраслевого документа где-либо, кроме как в стенах профильного агентства. С другой - текст стратегии вышел слишком сухим, технократичным, с явным превалированием принципа "никто не забыт" над принципом качественного изменения организационной мысли. Желание зафиксировать текущее положение в области целеполагания, организации и управления космической деятельностью чувствуется в каждой строке документа, обещающего россиянам переход с рубежей восстановления возможностей на плацдарм для прорыва.
Между тем самым неловким моментом этого, безусловно, ответственно написанного труда видится отсутствие емкой политической доктрины, концепции, которая взяла бы на себя задачу пояснения читателям и потенциальным исполнителям привязки видов и принципов развития отрасли и космической деятельности в целом к целям и задачам, которые стоят перед страной. Хотя бы в преамбуле было необходимо упомянуть видение стратегических рубежей в сфере освоения космоса, которые страна планирует достичь к 2030 году, а также перечислить глобальные вызовы, стоящие на этом пути. Постараемся своими скромными усилиями восполнить этот пробел.
Вызовы
Первой из очевидных глобальных проблем, задающих тренды развития на долгую перспективу, считается исчерпание природных ресурсов и, в первую очередь, углеводородного сырья, на котором по-прежнему держится подавляющая часть энергопроизводящих мощностей цивилизации, и, стало быть, являющейся становым хребтом мировой экономики. Стремительное истощение невозобновляемых ресурсов влечет за собой трансформацию процессов глобализации, углубляет разрыв между тремя мирами – постиндустриальным (развитым) миром Запада, индустриальным миром Юго-Восточной Азии и примыкающей к ней части стран Южной Америки, Турции, Ирана и т.д. ("Всемирной фабрикой") и регрессирующими странами с доиндустриальными обществами – большая часть Африки, значительная часть Азии.
Обделенным ресурсами развитым странам становится все сложнее поднимать рентабельность добычи, оставляя за счет контроля над мировыми финансовыми институтами у себя в экономике норму прибыли, лишь фиктивно находящуюся в управлении местных элит. Здесь просматриваются два решения, которыми могут идти развивающиеся страны, дабы не допустить коллапса своих энергозависимых экономик:
1) Война. Наиболее ярко этот метод был обозначен в 2011году на примере вмешательства Запада в гражданскую войну в Ливии. Что повлекло десятки тысяч человеческих жертв, распад и погружение в анархию некогда одного из пяти наиболее развитых государств континента. По сути, материальные и нематериальные активы правящей элиты развивающейся страны были отчуждены Западом, а контроль над энергетическим сектором за счет военной интервенции военным путем перешел в руки западных корпораций, вступивших в жесточайшую конкуренцию между собой.
2) "Зеленый проект". По сути это глобальный проект мягкого идеологического сдерживания темпов развития индустриальных и доиндустриальных стран с целью сохранить фиксацию текущего положения вещей под прикрытием сохранения глобального экологического баланса. Доиндустриальные страны объявляются "нетронутым раем", в котором людям не нужна промышленность и иные сложные элементы индустриального пути развития, априори отсекающая любые надежды и возможности построить государственность, способную конкурировать с развитым Западом. По сути, миллиарды жителей Африки, Азии и Америки становятся декорацией огромного планетарного зоопарка, в котором "сверхчеловеки" из стран с "зеленой экономикой" в натуральных условиях могут наблюдать растущее поголовье жирафов, гиппопотамов, мартышек и негров. Страны "зеленой экономики" оставляют за собой в таком сценарии роль "мировой лаборатории", владеющей ключевыми технологиями и фабрикой знаний крупнейших университетов, позволяющих постоянно воспроизводить новые знания. Они продолжат потреблять максимум производимой энергии при постоянно растущих уровнях очистки, переработки углеводородов и развитии возобновляемых источников энергии. При этом фиксируется ограниченное число крупных потребителей - около 1 млрд человек. Что касается индустриальных стран, в первую очередь, Китая, то они будут подвергаться комплексной идеологической обработке (включая отработанную практику "борьбы за права человека", "борьбы с тоталитаризмом") с целью любой ценой не допустить их перехода в постиндустриальную стадию развития, окончательной урбанизации и накопления военного потенциала, способного отразить решение проблем по первому варианту.
Подобные выводы уже давно являются не сказками профессиональных алармистов или литературными трудами великих фантастов прошлого, а строго обоснованным научным анализом, к которому прислушиваются столь весомые организации, как "Римский клуб". Итак, в ближайшем будущем нам нужно быть готовым к тому, что дешевой нефти не будет, производство электроэнергии стабилизируется либо пойдет на убыль. Вырастут цены на продукты питания и чистую воду, т.к. усложнившееся их производство напрямую зависит от цен на электричество и энергоносители.
Какие изменения в мировом развитии космической деятельности должны последовать за реализацией глобального вызова "энергетического голода" ближайших десятилетий?
1) Милитаризация космоса. Передел ресурсов потребует качественного изменения и модернизации вооруженных сил многих стран. Лучшая армия - это армия с ядерным оружием, мощной системой ПРО и высокоточным оружием, для чего созданы и создаются глобальные системы навигации (NAVSTAR/GPS, Ураган/ГЛОНАСС, Compass, Galileo), а также средства ведения боевых действий в околоземном пространстве.
2) Уменьшение рынка космических телекоммуникаций, увеличение конкуренции со стороны наземных новых средств связи, а значит, уменьшение числа производимых космических аппаратов (КА). Произойдет уменьшение размеров космических аппаратов, тренд на всеобщую миниатюризацию за счет применения новых достижений ИКТ-индустрии. Усилившая в этом сегменте конкуренция приведет к росту наиболее экономичных и надежных при военном вмешательстве решений. Это позволит еще шире развернуть наступление компаний наземного телекома на планы создания космических телекоммуникационных систем развивающихся стран.
3) Дистанционное зондирование Земли (далее ДЗЗ) – самый развивающийся сегмент. Уже сейчас можно сказать, что именно он во многом потащит на себе индустрию и станет профильным предназначением микроспутников. Фиксация из космоса добычи и транспортировки углеводородного сырья, загрязнений окружающей среды, контроль над оборотом возобновляющихся биоресурсов, развитие максимально эффективного сельского хозяйства будут иметь неуклонно возрастающее значение.
4) Выведение на орбиту. Это проблема для развивающихся индустриальных стран, т.к. режимы контроля и нераспространения, наложенные развитыми странами с целью увеличения их и только их безопасности, тормозят развитие данной отрасли. Соответственно, здесь будет наблюдаться рост развития корпораций по оказанию широкого спектра услуг по выведению, центров операторской деятельности программ развивающихся стран. Широко будет расти туристический бизнес в постиндустриальных странах, краткие полеты в космос должны стать достаточно доступным развлечением, на которое без особых проблем могли бы откладывать деньги люди со средним уровнем достатка.
5) Астрофизика становится главным кладезем науки ХХI века. После интеллектуального голода, вызванного тупиком развития субъядерной физики и физики частиц в конце прошлого - начале нынешнего века, становится очевидным, что открытие новых способов получения энергии будет во многом базироваться на раскрытии тайны темной материи, темной энергии. По сути, развитие науки в этом направлении - единственный шанс преодолеть глобальный энергетический кризис и создать новую повестку дня на вторую половину текущего века.
6) Проблема популяризации космической деятельности в постиндустриальном обществе с потребительскими моделями социальной организации. Важнейшей задачей правительства и крупного бизнеса является объективное разъяснение (методами образования и пропаганды) массам людей ныне получаемой и потенциальной пользы от освоения космического пространства, в котором, безусловно, скрыты решения подавляющего большинства технических и социальных проблем человечества.
Текущее положение дел
Чтобы предлагать какие-либо идеи в дополнение к представленной стратегии, необходимо взвешенно и ясно оценить нынешнее положение отечественной ракетно-космической промышленности, её организационно-хозяйственные формы, кадровый, промышленный, научный потенциал.

Как видно из представленного рисунка, в масштабе мирового рынка космических услуг позиции России выглядят, прямо скажем, невпечатляюще – в огромных областях услуг Телекома/Навигации/ДЗЗ мы занимаем объем менее 1%, в области производства космических аппаратов - менее 10% и владеем около 40% рынка выведения на орбиту. Де-факто за последние 10 лет в мировом распределении труда за Россией закрепилась роль космического рикши. Мы уже не можем осуществлять высокотехнологические межпланетные миссии, получать качественные научные данные из космоса – случай удачного запуска аппарата "Радиоастрон", увы, в наличной статистике выглядит как приятная неожиданность, нежели запланированный успех. На всем вале получаемых данных "космической науки" наша ниша - несколько процентов. Текущая ситуация на главных производительных мощностях ракетно-космического комплекса характеризуется такими параметрами, как выработка на одного работающего в отрасли, составлявшая 14,8 тыс. долл. в год. Это в 33 раза ниже, чем в то же время в США (493,5 тыс. долл. в год, если верить докладу Минэкономразвития России за 2008 г.). Ныне производительность труда в космической отрасли РФ по-прежнему в десятки раз уступает показателям США и ЕС, несмотря на существенный - более чем в 10 раз за 10 лет - рост прямого государственного финансирования. Переломить ситуацию здесь могут лишь подлинные структурные реформы, описание которых хотелось бы найти в документе, именуемом стратегией, где их, к сожалению пока нет. Правда есть шанс, что после общественного обсуждения документ станет лучше – сама по себе позиция открытого обсуждения говорит о серьезнейшей потенции руководства агентства по применению новых, более смелых методов принятия решений и, возможно, переосмыслению своего положения в нормативно-правовом поле контроля и управления космической деятельностью в России.
Давно осознаны и прописаны во множестве экспертных статей основные проблемы предприятий отрасли: разрыв в доходах в 100 и более раз между топ-менеджментом и основным научно-инженерным составом, коррупция при выделении госзаказов, акцентировать внимание на которой вынужден даже глава агентства, показывая отсутствие иных инструментов воздействия. Открытой раной зияет на всех предприятиях демографическая брешь между людьми 25-30 и 65-70 летнего возраста, причем в инженерном и научном корпусе этот разрыв куда заметнее. Высочайший уровень забюрократизированности процессов, когда на одного инженера или научного сотрудника приходится около десяти непрофильных сотрудников, и любое действие для инженера или ученого упирается в сбор сотен подписей. Про отсутствие электронного документооборота и модернизацию производства при вытеснении физической рабочей силы и говорить не приходится.
Сейчас все более становится ясно, что одним лишь повышением уровня финансовых вливаний ситуацию не переломить. Рост вложений в предприятия ракетно-космического комплекса через бюджеты Роскосмоса (федеральные и целевые программы) увы не решает проблему – количество отказов и громко освещаемых СМИ катастроф растет год за годом. В целом ситуация похожа на лечение тяжелобольного человека, которому закачивают все более концентрированный физраствор, вместо того что бы решиться на полостную операцию.
Очевидно, что верховная власть глубже чувствует драматичность происходящего в отрасли кризиса – непопадание космической и атомных тематик в особый статус упоминаемых в предвыборных статьях Владимира Путина, а так же в последний его доклад перед Думой. Да, речь шла в программе "Единой России" и в предвыборных статьях Путина о создании миллионов новых высокотехнологичных рабочих мест. Но аналитики полагают, что "создаваться эти рабочие места в основном будут на государственные деньги и в тех отраслях и регионах, которые наметит правительство. Так, среди отраслевых приоритетов новый президент назвал станкостроение, двигателестроение, производство новых материалов, фармацевтику, авиа- и судостроение. Примечательно, что из приоритетной пятерки последних лет вылетели космос и атомная отрасль, а их места заняли станко- и двигателестроение. С одной стороны, это позитивные изменения: производство станков и двигателей - фундамент развития производственных отраслей. С другой - исключение космоса и атома может означать, что разруха в этих отраслях уже не позволяет рассматривать их в качестве прорывных, что не может не огорчать".
Очевидно, что существует нарастающая опасность выпадения космической отрасли из числа государственных приоритетов развития, и авторы стратегии обязаны понимать риски смещающихся акцентов. Громко декларируемая программа создания космодрома "Восточный" все больше становится дополняющей частью программ развития Дальнего востока, а не самостоятельно ценной программой. Мотивация таким образом переводится в область решения социальных проблем, нежели под задачи развития в сфере космической деятельности в области создания более развитых систем выведения. Если бы "Восточный" изначально задумывался как международный проект с целью обеспечить доступ в космос для стран Юго-Восточной Азии, это спасло бы его от обидной критики, дескать сверхдорогостоящий объект создают исключительно ради того, "чтобы был", и по такому же принципу требуют от ракетных корпораций разработки новых средств выведения, ориентированных на эту площадку. В ответ на сакраментальное "зачем?" все чаще слышится рассказ о мультипликативном эффекте для экономики региона, нежели о решении задач государства и рынка, требующих от РФ создания третьего большого космодрома при недозагруженности первых двух. К сожалению, стратегия в ее нынешнем виде, не дает ответа и на этот вопрос.
В целом из указанной проблематики следует, что если руководству страны не будет представлена краткая концепция решения основных проблем космической отрасли, влияние "космического лобби" будет и дальше снижаться, и в ближайшие десять лет космонавтика может окончательно потерять статус одного из национальных приоритетов, отойдя на задворки заявленной вернувшимся президентом реиндустриализации. Такое случается – все мы на практике наблюдали, как Финляндия потеряла более чем десятилетнее лидерство на рынке производства устройств мобильной связи, не успев скоординировать действия своих компаний на высококонкурентном рынке. Точно так же и Россия может променять свои несколько процентов на рынке осуществления космической деятельности на полный ноль, если в качестве национальной стратегии у нас будет принят документ, суть которого сводится к фиксации статус-кво.
Таким образом, вопрос состоит в том, какие ключевые позиции могли бы быть представлены в той краткой политической концепции, которая должна предвосхищать текст стратегии и содержать в себе условия преодоления внешних вызовов ближайших десятилетий, а также резкого изменения к лучшему сложившейся в отрасли ситуации.
Я предлагаю следующие:
Принципы стратегии
1) Больше международного партнерства. Дорогостоящие проекты должны вноситься в федеральную космическую программу и целевые программы только тогда, когда в них подразумевается международное участие. Допустим, в плане кооперации производства оно может быть направлено на трансляцию компетенций и технологий, в частности, создание отечественной радиоэлектронной компонентной базы. В плане потенциального рынка сбыта услуг международное партнерство необходимо для строительства космодромов, запуска новых линеек платформ для космических аппаратов, научных проектов астрофизического и планетарного направлений. Установление нарастающих международных связей с производителями и потребителями космических услуг поможет с наименьшими потерями пройти испытание кризисом глобализации.
2) Больше частной инициативы. Производство средств для освоения и оказание услуг в ближнем космосе должно стать частным. Если у частных компаний в чем-то не хватает компетенций или мощностей, это должно в какой-то период быть компенсировано государством. Декларируемое в текущей версии стратегии развитие государственно-частного партнерства, раскрытое в главе 7 и главе 9 пункт 9.3, не прописывает детально сроков изменения структуры предприятий отрасли. Речь идет лишь о получаемой в итоге продукции. И опять мы читаем много слов о технике и очень мало о том, когда и как будет происходить перестройка структуры собственности. Ясно, что дело идет к отказу от формы ФГУПов (решение, произрастающее из предложений МЭР), но прямого ответа, состоится ли приватизация отрасли или просто крупные госбанки окажутся среди с акционеров, стратегия не содержит. Хотя именно вопрос собственности является ключевым в организации структуры ракетно-космической промышленности и степени предполагаемой ее эффективности, а также в упорядочении роли Федерального Космического Агентства - Роскосмоса.
Основной задачей приватизации должно стать привлечение частных инвестиций в отрасль с целью не только модернизации производств, введения современных форм хозяйственной деятельности, но, в первую очередь, слома существующей патриархальной системы трудовых отношений на предприятиях отрасли. В подавляющем большинстве предприятий отрасли руководство относится к своим сотрудникам как к личной собственности в довесок к станкам и компьютерам. До сих пор культивируется культ генеральных директоров, пресловутых "крепких хозяйственников", поднявших предприятия с колен и сумевших пережить "проклятые девяностые". Значительная часть подобных руководителей практикуют исключительно авторитарный стиль управления. Профсоюзы являются абсолютной фикцией и лишь мимикрируют под организации, осуществляющие защиту интересов трудящихся, по сути превратившись в "собесы" по распределению путевок и денег на свадьбы и похороны. Недопустимые вилки в сто и более раз между доходами руководства и нижним научно-инженерным слоем, присвоение интеллектуальной собственности предприятиями – все это должно уйти в прошлое, вместе с развитием конкуренции на рынке труда отрасли, которую должна стимулировать верно проводимая политика государственно-частного партнерства. Разумеется, новые хозяева предприятий – а процесс передачи их в частные руки может быть двухфазовым, через стадию управления государственными банками – должны будут жестко ориентироваться на рыночные запросы: провести модернизацию производства, сократить штат и в конечном итоге стремиться выйти на международный уровень производительности труда. Это повлечет серьезные социальные конфликты, но только в них могут родиться настоящие, не бутафорские, "несоветские" профсоюзы. В итоге возникнет несколько (не менее 2-х) вертикально ориентированных холдингов и ряд крупных частных компаний операторов услуг.
Процесс формирования основных холдингов повлечет естественный отбор тематик космической деятельности и, в результате, мы уйдем от метода "действовать растопыренными пальцами" сразу во всех направлениях конструкторской деятельности, что является родовой болезнью отечественной космонавтики, унаследовавшей структурное многообразие от плановой экономики СССР. Но сейчас потянуть все виды деятельности не могут даже столь богатые экономики, как США. Также и в отечественной структуре ракетно-космической промышленности возможны изменения, ориентированные на более жесткое соответствие запросам государственного и частного потребителя.
Это предложение не должно выглядеть как некая маниловщина. Продуманный взвешенный межведомственный план действий, одобренный и поддержанный верховным руководством страны, с глубокой проработкой опыта публичных корпораций США, развития госсобственности в ОПК Франции должен помочь не только найти техническое решение (в форме нормативных актов), но и обосновать перед массами населения благотворность частной инициативы и разгосударствления предприятий в этом закрытом, связанном с решением оборонных задач, сегменте экономики. При этом нужно вести не сектантско-либеральную пропаганду, со ссылками на работы фон Мизеса, де Сото и прочих апологетов австрийского институционализма и т.п., а продуманно, шаг за шагом публично разъясняя гражданскому обществу необходимость своих действий, провести реформу, извлекая уроки из всего негативного опыта предыдущих волн приватизации 90-х и первой половины 2000-х годов. Только в управлении этими процессами Роскосмос может показать себя эффективным регулятором государственного участия, уйдя от сомнительного пути превращения в еще одну корпорацию типа Росатома, заслужив тем самым высокое внимание и особый статус в глазах высшего руководства страны. Статус этот мог бы быть закреплен, например, решением о создании при Администрации президента РФ Совета по освоению космоса, с введением должности советника президента по космической деятельности.
3) Больше межведомственного взаимодействия. Задуманная реформа отрасли не может быть осуществлена без учета мнения и планирования Министерства экономического развития, Министерства обороны, Минобрнауки, Росимущества и РАН. В целом развитие различных видов космической деятельности должно согласовываться с долгосрочными планами соответствующих министерств, которые могут выступать альтернативными заказчиками работ для создаваемой частной космонавтики, особенно в сегменте ДЗЗ. То же касается появляющегося сектора компаний-операторов услуг в сегментах навигации космической связи обработки данных ДЗЗ - они должны искать заказчиков в разных государственных структурах, и Роскосмос может выступать здесь регулирующим органом, делая доступными и удобными для развития бизнесов долгосрочные планы различных ведомств в плане удовлетворения их нарастающих нужд в космических услугах. Схожая методология сейчас удачно действует при планировании деятельности советом РАН по космосу. Приватизируемым и вновь образуемым частным компаниям должно стать проще получать различные лицензии, предварительно готовясь диверсифицировать свою деятельность.
4) Учить людей космосу. Важнейшей задачей и вызовом дня является снижение общественного интереса к космической деятельности. Когда потребительское начало современных социальных отношений находится в постоянном противоречии с имманентной жаждой познания, присущей каждому человеку, отрасли приходится бороться не только за организацию притока кадров рабочих, инженеров, ученых, но и за необходимость постоянно отвечать на вопрос, зачем этим людям связывать свою жизнь с космосом? Ведь куда выгоднее устроиться в банковско-финансовый сектор, в топливно-энергетический, поступить на госслужбу. Поэтому одной из основных задач Роскосмоса в координации с Минобрнауки, РАН, экспертным сообществом, частными и государственными СМИ является пропаганда освоения космоса, разъяснение для всех людей в России и за рубежом, почему в космос можно и нужно приходить, заниматься творчеством, организовывать бизнес, делать карьеру. В этом ключе возможно, например, проведение всероссийских или международных опросов по выбору целей дальней пилотируемой космонавтики. Международная космическая пилотируемая программа миссий в дальний космос как ничто иное служит делу популяризации космической деятельности во всех ее проявлениях. Для долгосрочного успешного развития идея необходимости освоения космоса должна проникнуть в сердце каждого человека!
Итак, Стратегия должна получить краткую политическую преамбулу, которую я бы назвал концепцией развития. Это должен быть краткий текст, ориентирующий основное смысловое поле стратегии на соответствие обозначенным критериям успеха при реализации в ближайшие десятилетия. Он должен подчеркивать международный, межсекторный (в экономическом смысле), межведомственный и пропагандистский мотивы осуществления Россией космической деятельности.
Александр БАУРОВ
Стамбул - Москва, 25-30 апреля 2012 г